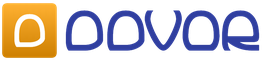Глава восьмая «мирская чаша». книга м. м. пришвина не о природе, а о революции. Мирская чаша. Предисловие
Михаил Пришвин
Мирская чаша
Михаил Михайлович Пришвин
Случалось, на огонек во время перелета, или в погоне за своей подругой, влетал ко мне болотный приятель с длинным клювом; влетит, сделает круг над столом и возвращается в Чистик - славное наше моховое болото, мать великой русской реки.
Не одно это болото питает многоводную реку, но все питающие мхи называются чистики.
Наш чистик был когда-то дном озера, и берега его, холмистые, песчаные, с высокими соснами, сохранили свой Первобытный вид, так вот и кажется, что за соснами будет вода, идешь - и нет! Буйные с полверсты заросли, в кустарниках кочки высотой по грудь человеку, если свалишься, напорешься на колья чахлых березок. Ходить тут можно по клюквенным тропам, пробитым общими силами клюквенных баб, волков, лисиц, зайцев, случается, и сам Миша пройдет, все тропят и спасаются в зарослях. Как пробьешься из этих зарослей в чистик - чистое место, благодатное, весной каждая кочка букет цветов, летом после комара, как подсохнет, найдешь себе кочку величиною со стол, и в нее как в постель, только руками поводишь, гребешь в рот клюкву, чернику, бруснику - кум королю!
Такой чистик нужно бы сделать заповедником, и топор, и огонь чтобы не касались лесов, окружающих болото - исток, мать славного водного пути из варяг в греки, иначе река иссякнет и страна обратится в пустыню.
Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края. Бывало, бродишь по этим лесам - какая могучая тишина, какая богатая пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто - сто! - лет эти немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут рельсы, трубы, заборы, фермы - страх за сто лет!
И что же оказалось (…), леса были так исковерканы, завалены сучьями, макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыловили и заглушили солдаты бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы? Да, только хищники, лисицы, волки, ястреба заполонили все вырубки, заваленные сучьями. Лес, земля, вода - вся риза земная втоптана в грязь, и только небо, общее всем и недоступное, по-прежнему сияет над этой гадостью.
Будет ли Страшный Суд?
На этот Суд я готовил одно себе оправдание, что свято хранил ризы земные.
И они все потоптаны.
Чем же я оправдаюсь теперь за свое бытие?
В тяжелые минуты спросишь себя: «Чего хочу?» - и отвечаешь: «Хочу настоящего чаю с сахаром».
Не ты ли, друг мой, боялся, что в твоей могучей пустыне через сто лет на каждом шагу будут предлагать чай с сахаром и кофе со сливками?
Да, я боялся, я думал о внешней природе по детским сказкам, теперь я думаю, что природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с личными целями, но то, что мы обыкновенно называем природой - леса, озера, реки, все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите от человека-зверя.
Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в человека, сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего (…) все бросились истреблять леса, - это не люди, это зверь безумный освободился.
Или это не так? Но верно, что Россия была как пустыня с оазисами; срубили оазисы, источники иссякли, и пустыня стала непроходимой.
Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое - народ русский в быту своем неизменный; история власти над русским народом и войн? Огромному большинству русского народа нет никакого дела до власти и до того, с кем он воюет; история страдания сознательной личности, или это есть история России? Да, это есть, но когда же кончится наконец такая ужасная история, и сам Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже хотелось побыть.
Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей любви! Я кричу: «Ходите в свете!» - а слово эхом ко мне возвращается: «Лежите во тьме!» Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная, и больше знаю, я избранник ее сердца и душа ее со мною всегда, - почему же я тоскую, разве этого мало? Мало! Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее простыми глазами. И тут она мне изменяет, душу свою чистую отдает мне, а тело другому, не любя, презирая его, и эта блудница, - раба со святою душой, - моя родина. Почему о родине я могу говорить, и, если бы я твердо знал, что это особенно нужно, я бы мог петь о ней, как Соломон о своей лилии, но ей сказать я ничего не могу, к ней мое обращение - молчание и счет прошедших годов?
Немой стою с папироской, но все-таки молюсь в этот заутренний час, как и кому не знаю, отворяю окно и слышу: в неприступном чистике еще бормочут тетерева, журавль кличет солнце, и вот даже тут, на озере, сейчас на глазах, сом шевельнулся и пустил волну, как корабль.
Немой стою и только после записываю:
«В день грядущий, просветли, господи, наше прошлое и сохрани в новом все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих рек, птиц сохрани, рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу нашу».
I АМПИРНЫЙ ДВОРЕЦ
Дворец владельцев этих лесистых обширных угодий признали высокохудожественным памятником искусства и старины, и некоторое время он стоял в полной сохранности, только уж, конечно, липы в парке постепенно обдирали на лыко, из павильонов и теплиц тащили стекло, завесы, гвозди, в большом искусственном озере стал подгнивать спуск, вода убывать, травы показались на мелких местах, цапли налетели рыбу клевать. Чудака не находилось на холод и голод вгнездиться во дворец и охранять его, и придумали самое плохое, что могло только быть для охраны: поселили тут внизу детскую колонию, с этого и началось заселение дворца. И началось!
Колония испортила быстро всю восточную часть и достала мандат на часть западную, а на ее место явилась школа. Колония движется во второй этаж, за ней школа, внизу начинает спектакли и танцы Культком и тоже вслед за школой перебирается вверх. В каком виде все тут внизу осталось, срам и рассказывать, не потрудились даже вымести шелуху от подсолнухов, полное безобразие: валяется белая туфля без каблука, стоптанный валенок, и на ступеньках лестницы из дряни грибы растут и зеленые мухи летают, - гадость ужасная. Обратили внимание, вычистили, разгородили комнаты шелевкой, устроили разные проходы, дверцы и впустили сюда «контрибуцию» - так называлась у нас Комиссия по сбору налогов деньгами, продуктами, еще тут вгнездилась лесная контора Цейтлина, часть совхоза, старуха с барскими павлинами, другие разные лица с мандатами. Всюду теперь по лестницам шныряли военные и полувоенные, что-то искали, организовывали, кто силен - грач, кто прозевал - ворона, кто поет хорошо - скворец, а воробей вон из скворечника. У нас же было наоборот: ворона гонит грача, воробей - скворца. Пять комнат во втором этаже, однако, были нетронуты, ручки на дверях завязаны и запечатаны печатью. Не посмотрели бы, конечно, ни на веревки, ни на печать и замки, а так не доходило и проскакивало из памяти. На этих комнатах было написано: «МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА» - какое дело помещичий быт в такое разгромное время, а вот слово «Музей», - и не тронули, тоже слово «павлин» - и не тронули двух павлинов, мало того, для охраны этих павлинов на полном совхозном пайке состоит Павлиниха, барская нянька, старуха, враждебная советской власти столетием собственного ее опыта жизни.
Раным-раненько с высокого вяза слетает павлин к воротам встречать солнце, вчера сторож колонии не раз облил ему хвост помоями и мальчишки оплевали - он теперь долго очищается и наконец, задрав хвост до невозможности, становится всей синевой и радугой своих бесчисленных завитков и лунок к солнцу. Спускается к своему огорду поповский сын шкраб Василий Семенович, оправляется тут же, под голубыми соснами, ничего не поделаешь, во всем доме негде. Всегда удивляется Василий Семенович павлину, разглядывает, покуривает. Вот оправляется и Коля Кудряш, конторщик контрибуции, в хорошем расположении духа подходит к павлину.
Ай, ай, ай!
Что такое?
Хвост-то, хвост, красота! Происхождение птицы вам, Василий Семеныч, известно?
Райская птица.
Райская, я понимаю, а каких же стран?
Из райских, конечно.
Есть же такие страны райские. Угрюмый, выходит с помоями с утра до вечера воду носящий сторож колонии.
Тоже зерно выдают! - ворчит он, проходя мимо павлина. - И еще при такой птице старуху содержат.
Хранцуз! - отвечает Павлиниха и: - пав, пав, пав! - отзывает с пути, чтобы тот не облил хвост помоями.
Красота!
А польза какая?
Все тебе польза, хранцуз!
Просыпается колония. Начальница, злейшая дева, босоногая, как хищная красноглазая птица, распущенкой летит по коридору на кухню хлеб делить, а вся стоногая детвора бежит, рассаживается под миртами и лаврами в дендрологическом садике, в ампирном павильоне, в теплицах, в английском парке под вязами - везде! На десятину вокруг все испачкано.
Подваливает слобода - так мужики называют все это дело с контрибуцией. Мужики тихи, робки и вежливы оттого, что у каждого для весу в кудели по камню, в муке много песку, баран кожа да кости, курица чумная, только бы сдать, а не сдашь и попадешься, тогда разговор краткий.
Есть! - спешит ответить мужик и гонит в кусты за самогонкой.
Хвост-то, хвост задрал! - удивляются мужики на павлина.
Красота!
С Павлинихой у них связь старинная через владельцев, и разговор у них в ожидании веса бывает тихий о старом и новом, что старое хорошо, а новое никуда не годится.
Другу не дружи и другому не груби. Богу молись и черта не заб...
Михаил Пришвин
Мирская чаша
Случалось, на огонек во время перелета, или в погоне за своей подругой, влетал ко мне болотный приятель с длинным клювом; влетит, сделает круг над столом и возвращается в Чистик - славное наше моховое болото, мать великой русской реки.
Не одно это болото питает многоводную реку, но все питающие мхи называются чистики.
Наш чистик был когда-то дном озера, и берега его, холмистые, песчаные, с высокими соснами, сохранили свой Первобытный вид, так вот и кажется, что за соснами будет вода, идешь - и нет! Буйные с полверсты заросли, в кустарниках кочки высотой по грудь человеку, если свалишься, напорешься на колья чахлых березок. Ходить тут можно по клюквенным тропам, пробитым общими силами клюквенных баб, волков, лисиц, зайцев, случается, и сам Миша пройдет, все тропят и спасаются в зарослях. Как пробьешься из этих зарослей в чистик - чистое место, благодатное, весной каждая кочка букет цветов, летом после комара, как подсохнет, найдешь себе кочку величиною со стол, и в нее как в постель, только руками поводишь, гребешь в рот клюкву, чернику, бруснику - кум королю!
Такой чистик нужно бы сделать заповедником, и топор, и огонь чтобы не касались лесов, окружающих болото - исток, мать славного водного пути из варяг в греки, иначе река иссякнет и страна обратится в пустыню.
Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края. Бывало, бродишь по этим лесам - какая могучая тишина, какая богатая пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто - сто! - лет эти немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут рельсы, трубы, заборы, фермы - страх за сто лет!
И что же оказалось (…), леса были так исковерканы, завалены сучьями, макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыловили и заглушили солдаты бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы? Да, только хищники, лисицы, волки, ястреба заполонили все вырубки, заваленные сучьями. Лес, земля, вода - вся риза земная втоптана в грязь, и только небо, общее всем и недоступное, по-прежнему сияет над этой гадостью.
Будет ли Страшный Суд?
На этот Суд я готовил одно себе оправдание, что свято хранил ризы земные.
И они все потоптаны.
Чем же я оправдаюсь теперь за свое бытие?
В тяжелые минуты спросишь себя: «Чего хочу?» - и отвечаешь: «Хочу настоящего чаю с сахаром».
Не ты ли, друг мой, боялся, что в твоей могучей пустыне через сто лет на каждом шагу будут предлагать чай с сахаром и кофе со сливками?
Да, я боялся, я думал о внешней природе по детским сказкам, теперь я думаю, что природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с личными целями, но то, что мы обыкновенно называем природой - леса, озера, реки, все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите от человека-зверя.
Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в человека, сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего (…) все бросились истреблять леса, - это не люди, это зверь безумный освободился.
Или это не так? Но верно, что Россия была как пустыня с оазисами; срубили оазисы, источники иссякли, и пустыня стала непроходимой.
Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое - народ русский в быту своем неизменный; история власти над русским народом и войн? Огромному большинству русского народа нет никакого дела до власти и до того, с кем он воюет; история страдания сознательной личности, или это есть история России? Да, это есть, но когда же кончится наконец такая ужасная история, и сам Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже хотелось побыть.
Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей любви! Я кричу: «Ходите в свете!» - а слово эхом ко мне возвращается: «Лежите во тьме!» Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная, и больше знаю, я избранник ее сердца и душа ее со мною всегда, - почему же я тоскую, разве этого мало? Мало! Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее простыми глазами. И тут она мне изменяет, душу свою чистую отдает мне, а тело другому, не любя, презирая его, и эта блудница, - раба со святою душой, - моя родина. Почему о родине я могу говорить, и, если бы я твердо знал, что это особенно нужно, я бы мог петь о ней, как Соломон о своей лилии, но ей сказать я ничего не могу, к ней мое обращение - молчание и счет прошедших годов?
Немой стою с папироской, но все-таки молюсь в этот заутренний час, как и кому не знаю, отворяю окно и слышу: в неприступном чистике еще бормочут тетерева, журавль кличет солнце, и вот даже тут, на озере, сейчас на глазах, сом шевельнулся и пустил волну, как корабль.
Немой стою и только после записываю:
«В день грядущий, просветли, господи, наше прошлое и сохрани в новом все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих рек, птиц сохрани, рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу нашу».
I АМПИРНЫЙ ДВОРЕЦ
Дворец владельцев этих лесистых обширных угодий признали высокохудожественным памятником искусства и старины, и некоторое время он стоял в полной сохранности, только уж, конечно, липы в парке постепенно обдирали на лыко, из павильонов и теплиц тащили стекло, завесы, гвозди, в большом искусственном озере стал подгнивать спуск, вода убывать, травы показались на мелких местах, цапли налетели рыбу клевать. Чудака не находилось на холод и голод вгнездиться во дворец и охранять его, и придумали самое плохое, что могло только быть для охраны: поселили тут внизу детскую колонию, с этого и началось заселение дворца. И началось!
Колония испортила быстро всю восточную часть и достала мандат на часть западную, а на ее место явилась школа. Колония движется во второй этаж, за ней школа, внизу начинает спектакли и танцы Культком и тоже вслед за школой перебирается вверх. В каком виде все тут внизу осталось, срам и рассказывать, не потрудились даже вымести шелуху от подсолнухов, полное безобразие: валяется белая туфля без каблука, стоптанный валенок, и на ступеньках лестницы из дряни грибы растут и зеленые мухи летают, - гадость ужасная. Обратили внимание, вычистили, разгородили комнаты шелевкой, устроили разные проходы, дверцы и впустили сюда «контрибуцию» - так называлась у нас Комиссия по сбору налогов деньгами, продуктами, еще тут вгнездилась лесная контора Цейтлина, часть совхоза, старуха с барскими павлинами, другие разные лица с мандатами. Всюду теперь по лестницам шныряли военные и полувоенные, что-то искали, организовывали, кто силен - грач, кто прозевал - ворона, кто поет хорошо - скворец, а воробей вон из скворечника. У нас же было наоборот: ворона гонит грача, воробей - скворца. Пять комнат во втором этаже, однако, были нетронуты, ручки на дверях завязаны и запечатаны печатью. Не посмотрели бы, конечно, ни на веревки, ни на печать и замки, а так не доходило и проскакивало из памяти. На этих комнатах было написано: «МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА» - какое дело помещичий быт в такое разгромное время, а вот слово «Музей», - и не тронули, тоже слово «павлин» - и не тронули двух павлинов, мало того, для охраны этих павлинов на полном совхозном пайке состоит Павлиниха, барская нянька, старуха, враждебная советской власти столетием собственного ее опыта жизни.
Раным-раненько с высокого вяза слетает павлин к воротам встречать солнце, вчера сторож колонии не раз облил ему хвост помоями и мальчишки оплевали - он теперь долго очищается и наконец, задрав хвост до невозможности, становится всей синевой и радугой своих бесчисленных завитков и лунок к солнцу. Спускается к своему огорду поповский сын шкраб Василий Семенович, оправляется тут же, под голубыми соснами, ничего не поделаешь, во всем доме негде. Всегда удивляется Василий Семенович павлину, разглядывает, покуривает. Вот оправляется и Коля Кудряш, конторщик контрибуции, в хорошем расположении духа подходит к павлину.
Михаил Пришвин
Мирская чаша
Случалось, на огонек во время перелета, или в погоне за своей подругой, влетал ко мне болотный приятель с длинным клювом; влетит, сделает круг над столом и возвращается в Чистик – славное наше моховое болото, мать великой русской реки.
Не одно это болото питает многоводную реку, но все питающие мхи называются чистики.
Наш чистик был когда-то дном озера, и берега его, холмистые, песчаные, с высокими соснами, сохранили свой Первобытный вид, так вот и кажется, что за соснами будет вода, идешь – и нет! Буйные с полверсты заросли, в кустарниках кочки высотой по грудь человеку, если свалишься, напорешься на колья чахлых березок. Ходить тут можно по клюквенным тропам, пробитым общими силами клюквенных баб, волков, лисиц, зайцев, случается, и сам Миша пройдет, все тропят и спасаются в зарослях. Как пробьешься из этих зарослей в чистик – чистое место, благодатное, весной каждая кочка букет цветов, летом после комара, как подсохнет, найдешь себе кочку величиною со стол, и в нее как в постель, только руками поводишь, гребешь в рот клюкву, чернику, бруснику – кум королю!
Такой чистик нужно бы сделать заповедником, и топор, и огонь чтобы не касались лесов, окружающих болото – исток, мать славного водного пути из варяг в греки, иначе река иссякнет и страна обратится в пустыню.
Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края. Бывало, бродишь по этим лесам – какая могучая тишина, какая богатая пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто – сто! – лет эти немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут рельсы, трубы, заборы, фермы – страх за сто лет!
И что же оказалось (…), леса были так исковерканы, завалены сучьями, макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыловили и заглушили солдаты бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы? Да, только хищники, лисицы, волки, ястреба заполонили все вырубки, заваленные сучьями. Лес, земля, вода – вся риза земная втоптана в грязь, и только небо, общее всем и недоступное, по-прежнему сияет над этой гадостью.
Будет ли Страшный Суд?
На этот Суд я готовил одно себе оправдание, что свято хранил ризы земные.
И они все потоптаны.
Чем же я оправдаюсь теперь за свое бытие?
В тяжелые минуты спросишь себя: «Чего хочу?» – и отвечаешь: «Хочу настоящего чаю с сахаром».
– Не ты ли, друг мой, боялся, что в твоей могучей пустыне через сто лет на каждом шагу будут предлагать чай с сахаром и кофе со сливками?
– Да, я боялся, я думал о внешней природе по детским сказкам, теперь я думаю, что природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с личными целями, но то, что мы обыкновенно называем природой – леса, озера, реки, все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите от человека-зверя.
Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в человека, сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего (…) все бросились истреблять леса, – это не люди, это зверь безумный освободился.
Или это не так? Но верно, что Россия была как пустыня с оазисами; срубили оазисы, источники иссякли, и пустыня стала непроходимой.
Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое – народ русский в быту своем неизменный; история власти над русским народом и войн? Огромному большинству русского народа нет никакого дела до власти и до того, с кем он воюет; история страдания сознательной личности, или это есть история России? Да, это есть, но когда же кончится наконец такая ужасная история, и сам Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже хотелось побыть.
Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей любви! Я кричу: «Ходите в свете!» – а слово эхом ко мне возвращается: «Лежите во тьме!» Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная, и больше знаю, я избранник ее сердца и душа ее со мною всегда, – почему же я тоскую, разве этого мало? Мало! Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее простыми глазами. И тут она мне изменяет, душу свою чистую отдает мне, а тело другому, не любя, презирая его, и эта блудница, – раба со святою душой, – моя родина. Почему о родине я могу говорить, и, если бы я твердо знал, что это особенно нужно, я бы мог петь о ней, как Соломон о своей лилии, но ей сказать я ничего не могу, к ней мое обращение – молчание и счет прошедших годов?
Немой стою с папироской, но все-таки молюсь в этот заутренний час, как и кому не знаю, отворяю окно и слышу: в неприступном чистике еще бормочут тетерева, журавль кличет солнце, и вот даже тут, на озере, сейчас на глазах, сом шевельнулся и пустил волну, как корабль.
Немой стою и только после записываю:
«В день грядущий, просветли, господи, наше прошлое и сохрани в новом все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих рек, птиц сохрани, рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу нашу».
I АМПИРНЫЙ ДВОРЕЦ
Дворец владельцев этих лесистых обширных угодий признали высокохудожественным памятником искусства и старины, и некоторое время он стоял в полной сохранности, только уж, конечно, липы в парке постепенно обдирали на лыко, из павильонов и теплиц тащили стекло, завесы, гвозди, в большом искусственном озере стал подгнивать спуск, вода убывать, травы показались на мелких местах, цапли налетели рыбу клевать. Чудака не находилось на холод и голод вгнездиться во дворец и охранять его, и придумали самое плохое, что могло только быть для охраны: поселили тут внизу детскую колонию, с этого и началось заселение дворца. И началось!
Колония испортила быстро всю восточную часть и достала мандат на часть западную, а на ее место явилась школа. Колония движется во второй этаж, за ней школа, внизу начинает спектакли и танцы Культком и тоже вслед за школой перебирается вверх. В каком виде все тут внизу осталось, срам и рассказывать, не потрудились даже вымести шелуху от подсолнухов, полное безобразие: валяется белая туфля без каблука, стоптанный валенок, и на ступеньках лестницы из дряни грибы растут и зеленые мухи летают, – гадость ужасная. Обратили внимание, вычистили, разгородили комнаты шелевкой, устроили разные проходы, дверцы и впустили сюда «контрибуцию» – так называлась у нас Комиссия по сбору налогов деньгами, продуктами, еще тут вгнездилась лесная контора Цейтлина, часть совхоза, старуха с барскими павлинами, другие разные лица с мандатами. Всюду теперь по лестницам шныряли военные и полувоенные, что-то искали, организовывали, кто силен – грач, кто прозевал – ворона, кто поет хорошо – скворец, а воробей вон из скворечника. У нас же было наоборот: ворона гонит грача, воробей – скворца. Пять комнат во втором этаже, однако, были нетронуты, ручки на дверях завязаны и запечатаны печатью. Не посмотрели бы, конечно, ни на веревки, ни на печать и замки, а так не доходило и проскакивало из памяти. На этих комнатах было написано: «МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА» – какое дело помещичий быт в такое разгромное время, а вот слово «Музей», – и не тронули, тоже слово «павлин» – и не тронули двух павлинов, мало того, для охраны этих павлинов на полном совхозном пайке состоит Павлиниха, барская нянька, старуха, враждебная советской власти столетием собственного ее опыта жизни.
Раным-раненько с высокого вяза слетает павлин к воротам встречать солнце, вчера сторож колонии не раз облил ему хвост помоями и мальчишки оплевали – он теперь долго очищается и наконец, задрав хвост до невозможности, становится всей синевой и радугой своих бесчисленных завитков и лунок к солнцу. Спускается к своему огорду поповский сын шкраб Василий Семенович, оправляется тут же, под голубыми соснами, ничего не поделаешь, во всем доме негде. Всегда удивляется Василий Семенович павлину, разглядывает, покуривает. Вот оправляется и Коля Кудряш, конторщик контрибуции, в хорошем расположении духа подходит к павлину.
– Ай, ай, ай!
– Что такое?
– Хвост-то, хвост, красота! Происхождение птицы вам, Василий Семеныч, известно?
– Райская птица.
– Райская, я понимаю, а каких же стран?
– Из райских, конечно.
– Есть же такие страны райские. Угрюмый, выходит с помоями с утра до вечера воду носящий сторож колонии.
– Тоже зерно выдают! – ворчит он, проходя мимо павлина. – И еще при такой птице старуху содержат.
– Хранцуз! – отвечает Павлиниха и: – пав, пав, пав! – отзывает с пути, чтобы тот не облил хвост помоями.
– Красота!
– А польза какая?
– Все тебе польза, хранцуз!
Просыпается колония. Начальница, злейшая дева, босоногая, как хищная красноглазая птица, распущенкой летит по коридору на кухню хлеб делить, а вся стоногая детвора бежит, рассаживается под миртами и лаврами в дендрологическом садике, в ампирном павильоне, в теплицах, в английском парке под вязами – везде! На десятину вокруг все испачкано.
МИРСКАЯ ЧАША.
Случалось, на огонек во время перелета, или в погоне за своей подругой,
влетал ко мне болотный приятель с длинным клювом; влетит, сделает круг над
столом и возвращается в Чистик - славное наше моховое болото, мать великой
русской реки.
Не одно это болото питает многоводную реку, но все питающие мхи
называются чистики.
Наш чистик был когда-то дном озера, и берега его, холмистые, песчаные,
с высокими соснами, сохранили свой Первобытный вид, так вот и кажется, что
за соснами будет вода, идешь - и нет! Буйные с полверсты заросли, в
кустарниках кочки высотой по грудь человеку, если свалишься, напорешься на
колья чахлых березок. Ходить тут можно по клюквенным тропам, пробитым общими
силами клюквенных баб, волков, лисиц, зайцев, случается, и сам Миша пройдет,
все тропят и спасаются в зарослях. Как пробьешься из этих зарослей в чистик
- чистое место, благодатное, весной каждая кочка букет цветов, летом после
комара, как подсохнет, найдешь себе кочку величиною со стол, и в нее как в
постель, только руками поводишь, гребешь в рот клюкву, чернику, бруснику --
кум королю!
Такой чистик нужно бы сделать заповедником, и топор, и огонь чтобы не
касались лесов, окружающих болото -- исток, мать славного водного пути из
варяг в греки, иначе река иссякнет и страна обратится в пустыню.
Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края.
Бывало, бродишь по этим лесам -- какая могучая тишина, какая богатая
пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто - сто! -- лет эти
немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут рельсы, трубы,
заборы, фермы -- страх за сто лет!
И что же оказалось (...), леса были так исковерканы, завалены сучьями,
макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало
невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыловили и заглушили солдаты
бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы? Да, только хищники,
лисицы, волки, ястреба заполонили все вырубки, заваленные сучьями. Лес,
земля, вода -- вся риза земная втоптана в грязь, и только небо, общее всем и
недоступное, по-прежнему сияет над этой гадостью.
Будет ли Страшный Суд?
На этот Суд я готовил одно себе оправдание, что свято хранил ризы
земные.
И они все потоптаны.
Чем же я оправдаюсь теперь за свое бытие?
В тяжелые минуты спросишь себя: "Чего хочу?" -- и отвечаешь: "Хочу
настоящего чаю с сахаром".
-- Не ты ли, друг мой, боялся, что в твоей могучей пустыне через сто
лет на каждом шагу будут предлагать чай с сахаром и кофе со сливками?
-- Да, я боялся, я думал о внешней природе по детским сказкам, теперь я
думаю, Что природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с личными
целями, но то, что мы обыкновенно называем природой -- леса, озера, реки,
все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите от
человека-зверя.
Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или
безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в человека,
сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего (...) все бросились
истреблять леса, -- это не люди, это зверь безумный освободился.
Или это не так? Но верно, что Россия была как пустыня с оазисами;
срубили оазисы, источники иссякли, и пустыня стала непроходимой.
Россия...
Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое -народ
русский в быту своем неизменный; история власти над русским народом и войн?
Огромному большинству русского народа нет никакого дела до власти и до
того, с кем он воюет; история страдания сознательной личности, или это есть
история России? Да, это есть, но когда же кончится наконец такая ужасная
история, и сам Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже
хотелось побыть.
Родина...
Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей
любви! Я кричу: "Ходите в свете!" - а слово эхом ко мне возвращается:
"Лежите во тьме!" Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная, и больше
знаю, я избранник ее сердца и душа ее со мною всегда,- почему же я тоскую,
разве этого мало? Мало! Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее
простыми глазами. И тут она мне изменяет, душу свою чистую отдает мне, а
тело другому, не любя, презирая его, и эта блудница,-- раба со святою
душой,- моя родина. Почему о родине я могу говорить, и, если бы я твердо
знал, что это особенно нужно, я бы мог петь о ней, как Соломон о своей
лилии, но ей сказать я ничего не могу, к ней мое обращение - молчание и
счет прошедших годов?
Немой стою с папироской, но все-таки молюсь в этот заутренний час, как
и кому не знаю, отворяю окно и слышу: в неприступном чистике еще бормочут
тетерева, журавль кличет солнце, и вот даже тут, на озере, сейчас на глазах,
сом шевельнулся и пустил волну, как корабль.
Немой стою и только после записываю:
"В день грядущий, просветли, господи, наше прошлое и сохрани в новом
все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих рек,
птиц сохрани, рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от
них душу нашу".
Михаил Пришвин
Мирская чаша
Случалось, на огонек во время перелета, или в погоне за своей подругой, влетал ко мне болотный приятель с длинным клювом; влетит, сделает круг над столом и возвращается в Чистик - славное наше моховое болото, мать великой русской реки.
Не одно это болото питает многоводную реку, но все питающие мхи называются чистики.
Наш чистик был когда-то дном озера, и берега его, холмистые, песчаные, с высокими соснами, сохранили свой Первобытный вид, так вот и кажется, что за соснами будет вода, идешь - и нет! Буйные с полверсты заросли, в кустарниках кочки высотой по грудь человеку, если свалишься, напорешься на колья чахлых березок. Ходить тут можно по клюквенным тропам, пробитым общими силами клюквенных баб, волков, лисиц, зайцев, случается, и сам Миша пройдет, все тропят и спасаются в зарослях. Как пробьешься из этих зарослей в чистик - чистое место, благодатное, весной каждая кочка букет цветов, летом после комара, как подсохнет, найдешь себе кочку величиною со стол, и в нее как в постель, только руками поводишь, гребешь в рот клюкву, чернику, бруснику - кум королю!
Такой чистик нужно бы сделать заповедником, и топор, и огонь чтобы не касались лесов, окружающих болото - исток, мать славного водного пути из варяг в греки, иначе река иссякнет и страна обратится в пустыню.
Много пришлось перенести горя за леса, красу и гордость нашего края. Бывало, бродишь по этим лесам - какая могучая тишина, какая богатая пустыня! Так хорошо, только страшно думать, что через сто - сто! - лет эти немые богатства русской земли будут вскрыты, везде будут рельсы, трубы, заборы, фермы - страх за сто лет!
И что же оказалось (…), леса были так исковерканы, завалены сучьями, макушками, что трава и цветы не выросли, и за грибами, за ягодой стало невозможно пройти, озера опустели, всю рыбу повыловили и заглушили солдаты бомбами, птицы куда-то разлетелись, или их поели лисицы? Да, только хищники, лисицы, волки, ястреба заполонили все вырубки, заваленные сучьями. Лес, земля, вода - вся риза земная втоптана в грязь, и только небо, общее всем и недоступное, по-прежнему сияет над этой гадостью.
Будет ли Страшный Суд?
На этот Суд я готовил одно себе оправдание, что свято хранил ризы земные.
И они все потоптаны.
Чем же я оправдаюсь теперь за свое бытие?
В тяжелые минуты спросишь себя: «Чего хочу?» - и отвечаешь: «Хочу настоящего чаю с сахаром».
Не ты ли, друг мой, боялся, что в твоей могучей пустыне через сто лет на каждом шагу будут предлагать чай с сахаром и кофе со сливками?
Да, я боялся, я думал о внешней природе по детским сказкам, теперь я думаю, что природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с личными целями, но то, что мы обыкновенно называем природой - леса, озера, реки, все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите от человека-зверя.
Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в человека, сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего (…) все бросились истреблять леса, - это не люди, это зверь безумный освободился.
Или это не так? Но верно, что Россия была как пустыня с оазисами; срубили оазисы, источники иссякли, и пустыня стала непроходимой.
Или это лишь чувство прошлого? Но какое же у нас прошлое - народ русский в быту своем неизменный; история власти над русским народом и войн? Огромному большинству русского народа нет никакого дела до власти и до того, с кем он воюет; история страдания сознательной личности, или это есть история России? Да, это есть, но когда же кончится наконец такая ужасная история, и сам Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже хотелось побыть.
Если бы моя далекая возлюбленная могла услышать в слове силу моей любви! Я кричу: «Ходите в свете!» - а слово эхом ко мне возвращается: «Лежите во тьме!» Но ведь я знаю, что она существует, прекрасная, и больше знаю, я избранник ее сердца и душа ее со мною всегда, - почему же я тоскую, разве этого мало? Мало! Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее простыми глазами. И тут она мне изменяет, душу свою чистую отдает мне, а тело другому, не любя, презирая его, и эта блудница, - раба со святою душой, - моя родина. Почему о родине я могу говорить, и, если бы я твердо знал, что это особенно нужно, я бы мог петь о ней, как Соломон о своей лилии, но ей сказать я ничего не могу, к ней мое обращение - молчание и счет прошедших годов?
Немой стою с папироской, но все-таки молюсь в этот заутренний час, как и кому не знаю, отворяю окно и слышу: в неприступном чистике еще бормочут тетерева, журавль кличет солнце, и вот даже тут, на озере, сейчас на глазах, сом шевельнулся и пустил волну, как корабль.
Немой стою и только после записываю:
«В день грядущий, просветли, господи, наше прошлое и сохрани в новом все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих рек, птиц сохрани, рыб умножь во много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу нашу».
I АМПИРНЫЙ ДВОРЕЦ
Дворец владельцев этих лесистых обширных угодий признали высокохудожественным памятником искусства и старины, и некоторое время он стоял в полной сохранности, только уж, конечно, липы в парке постепенно обдирали на лыко, из павильонов и теплиц тащили стекло, завесы, гвозди, в большом искусственном озере стал подгнивать спуск, вода убывать, травы показались на мелких местах, цапли налетели рыбу клевать. Чудака не находилось на холод и голод вгнездиться во дворец и охранять его, и придумали самое плохое, что могло только быть для охраны: поселили тут внизу детскую колонию, с этого и началось заселение дворца. И началось!
Колония испортила быстро всю восточную часть и достала мандат на часть западную, а на ее место явилась школа. Колония движется во второй этаж, за ней школа, внизу начинает спектакли и танцы Культком и тоже вслед за школой перебирается вверх. В каком виде все тут внизу осталось, срам и рассказывать, не потрудились даже вымести шелуху от подсолнухов, полное безобразие: валяется белая туфля без каблука, стоптанный валенок, и на ступеньках лестницы из дряни грибы растут и зеленые мухи летают, - гадость ужасная. Обратили внимание, вычистили, разгородили комнаты шелевкой, устроили разные проходы, дверцы и впустили сюда «контрибуцию» - так называлась у нас Комиссия по сбору налогов деньгами, продуктами, еще тут вгнездилась лесная контора Цейтлина, часть совхоза, старуха с барскими павлинами, другие разные лица с мандатами. Всюду теперь по лестницам шныряли военные и полувоенные, что-то искали, организовывали, кто силен - грач, кто прозевал - ворона, кто поет хорошо - скворец, а воробей вон из скворечника. У нас же было наоборот: ворона гонит грача, воробей - скворца. Пять комнат во втором этаже, однако, были нетронуты, ручки на дверях завязаны и запечатаны печатью. Не посмотрели бы, конечно, ни на веревки, ни на печать и замки, а так не доходило и проскакивало из памяти. На этих комнатах было написано: «МУЗЕЙ УСАДЕБНОГО БЫТА» - какое дело помещичий быт в такое разгромное время, а вот слово «Музей», - и не тронули, тоже слово «павлин» - и не тронули двух павлинов, мало того, для охраны этих павлинов на полном совхозном пайке состоит Павлиниха, барская нянька, старуха, враждебная советской власти столетием собственного ее опыта жизни.
Раным-раненько с высокого вяза слетает павлин к воротам встречать солнце, вчера сторож колонии не раз облил ему хвост помоями и мальчишки оплевали - он теперь долго очищается и наконец, задрав хвост до невозможности, становится всей синевой и радугой своих бесчисленных завитков и лунок к солнцу. Спускается к своему огорду поповский сын шкраб Василий Семенович, оправляется тут же, под голубыми соснами, ничего не поделаешь, во всем доме негде. Всегда удивляется Василий Семенович павлину, разглядывает, покуривает. Вот оправляется и Коля Кудряш, конторщик контрибуции, в хорошем расположении духа подходит к павлину.