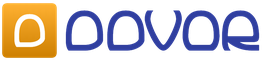Воспоминания о художнике бродском. Воспоминания Рады Аллой об Иосифе Бродском – попытка иллюстрации. Людмила ШтернПоэт без пьедесталаВоспоминания об Иосифе Бродском
Сегодня день рождения Иосифа Бродского. Думаю, это хороший повод рассказать про книги о нем.
Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским
Сборник пространных интервью поэта, каждое из которых посвящено или определенному периоду жизни или кому-то из "учителей" (Ахматова, Оден, Фрост). На мой вкус, лучшая книга о Бродском, потому что кто же лучше расскажет о художнике, если не он сам. Отдельное удовольствие в том, что тексты ответов не приглажены, и можно почувствовать интонации Бродского, его иронию (в которую Волков несколько раз очень смешно не врубается, между прочим). Другие книги о Бродском после "Разговоров" часто кажутся ненужными повторениями.
Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии
"Литературность" этой биографии не в том, что Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы
, а в том, что это биография не столько человека (как в книге Волкова), сколько поэта. По сути дела, это цепочка очерков, касающихся ключевых моментов биографии, их отражения в творчестве, некоторых аспектов поэтики (истоки и влияния, темы и мотивы, метрика и ритм, etc.). Лосев создал биографию образцовую: строгую, корректную, беспристрастную. За одну только фразу "но на самом деле мы об этом ничего не знаем" ему следовало бы поставить памятник.
Иосиф Бродский. Книга интервью
Здоровенный (под 800 страниц) том интервью, кому только (от друзей вроде Томаса Венцловы до неизвестных репортеров) и когда только (1972-1995 гг.) не данных. Чтение специфическое, поскольку и в вопросах, и в ответах много повторов. Однако попадаются и любопытные подробности, каких не встретишь в других книгах. Например, в одной из бесед Бродский рассказывает, как в молодоски выучил польский и еще в Ленинграде умудрялся читать Сартра, Ионеско, Фолкнера и прочих, покупая польские переводы в магазине книг стран народной демократии.
Людмила Штерн. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph
Воспоминания близкой знакомой Бродского, которая общалась с ним начиная с конца 50-х и до конца его жизни (отсюда и трехчастное название). Это именно что воспоминания, бесценные в своей случайности. Много бытовых и личных подробностей, разнообразных анекдотов, и Бродский в этой книге не столько поэт и лауреат, сколько живой меняющийся человек. Раскрыта также вечная тема женских мемуаров "Я и Пушкин". Когда Штерн пишет о Марине Басмановой, между строк отчетливо читается: "Нашел в кого влюбиться, со мной бы ему гораздо лучше было".
Валентина Полухина. Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоха
Книжка-хроника, в которой события жизни перемежаются с документами и кусочками воспоминаний. Читать эту мешанину из дат, имен и названий сложно, да едва ли и нужно. Идеальное назначение этой книжки - справочное. Впрочем, хороший справочный аппарат (составленный той же Полухиной) есть и в биографии Лосева.
Владимир Уфлянд. "Если Бог пошлет мне читателей..."
В этой книжке Бродский - персонаж баек и легенд, которые рассказывает не кто-нибудь, а замечательный ленинградкий поэт и опять-таки друг Бродского. Байки совершенно хармсообразные. Например, как Бродский решил спать на крыше Смольного собора, полез на него с раскладушкой, засмотрелся на панораму Питера, уронил раскладушку вниз, раскладушка упала на милиционера, охранявшего Смольный, итд.
Игорь Ефимов. Нобелевский тунеядец
Единственная книга, на которую я не советую тратить ни денег, ни время. Тоненькая брошюрка, в которой обрывки воспоминаний о Бродском втиснуты между подробными описаниями того, как писатель Ефимов выезжал в заграничные командировки и учился в советском литинституте. Еще примерно треть брошюрки занимают письма писателя Ефимова к поэту Бродскому (ответы Бродского отсутствуют). В общем и целом мы имеем массу сведений о писателе Ефимове, поклонникам которого и стоит порекомендовать этот опус. К Бродскому он имеет весьма косвенное отношение.
В 1964 году Иосиф Бродский был осужден за тунеядство, приговорен к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности и сослан в Коношский район Архангельской области, где поселился в деревне Норинская. В интервью Соломону Волкову Бродский назвал это время самым счастливым в своей жизни. В ссылке Бродский изучал английскую поэзию, в том числе творчество Уистена Одена:
Я помню, как сидел в маленькой избе, глядя через квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочёл... Я просто отказывался верить, что ещё в 1939 году английский поэт сказал: «Время... боготворит язык», а мир остался прежним.
«Поклониться тени»
8 апреля 1964 года, согласно «Приказу № 15 по совхозу „Даниловский“ Архангельского треста „Скотооткорм“» Бродский был зачислен в бригаду № 3 в качестве рабочего с 10 апреля 1964 года.
В деревне Бродскому привелось попробовать себя в качестве бондаря, кровельщика, возницы, а также трелевать брёвна, заготавливать жерди для изгородей, пасти телят, разгребать навоз, выкорчевывать камни с полей, лопатить зерно, заниматься сельскохозяйственными работами.
А. Буров — тракторист — и я,
сельскохозяйственный рабочий Бродский,
мы сеяли озимые — шесть га.
Я созерцал лесистые края
и небо с реактивною полоской,
и мой сапог касался рычага.
1964
Вот какие воспоминания о Бродском сохранились у жителей райцентра Коноша и деревни Норинской.
Таисия Пестерева, телятница: «Послал его бригадир жердья для огорожки секти. Топор ему навострил. А он секти-то не умеет — задыхается и все ладоши в волдырях. Дак бригадир... стал Иосифа на лёгкую работу ставить. Вот зерно лопатил на гумне со старухами, телят пас, дак в малинник усядется, и пока не наестся, не вылезет из малинника... Худой молвы о себе не оставил... Обходительный был, верно... Потом Иосиф на постой в другой дом перебрался. И перво-наперво посадил перед избой черемуху — из лесу принес. Говаривал: „Каждый человек должен за свою жизнь хоть одно дерево посадить, людям на радость“».
Мария Жданова, работник почты: «Стоит у меня на почте, опершись на стойку, смотрит в окно и говорит в таком духе, что о нём ещё заговорят. Я тогда ещё подумала грешным делом: кто же о тебе заговорит, о тунеядце? Запомнились те слова от сомнения — кому ты, больной и ни к чему не гожий, нужен и где о тебе говорить-то будут».
Александр Булов, тракторист: «Пока он с Норинской до работы дойдет три километра — опоздает, потом, если сеялку на поле заклинит, от Иосифа пользы никакой. И все время перекурить звал. Мерзнуть будет, лишь бы не вспотеть. Мешки поворочает, сеялку кое-как затарит зерном, а больше ни-ни... С ним с год я всего проработал, да и то старался, если можно было не брать его... Получал Иосиф в совхозе рублей пятнадцать в месяц — за что больше, если не работал... Жаль вообще мужика было. Придет на работу, с собой — три пряника, и вся еда. Брал Иосифа с собой домой, подкармливал. Не пили, нет... госбезопасность приезжала: мою хозяйку с самого начала предупредили, чтобы я с ним не снюхался... Иосиф мне стихи не читал, а я не вникал и не вникаю. По мне, чем сюда было высылать, лучше бы сразу за бугор. Там ему место: и душой закрытый, и стихи у него муть какая-то».
Дмитрий Марышев, секретарь парткома совхоза, впоследствии директор совхоза: «Мы с ним оказались в одной паре. Женщины затаривали выкопанные трактором клубни в мешки, а мы грузили мешки на тракторную тележку. Беремся вдвоем с Бродским за мешок и забрасываем на тележку. Говорите, был он сердечником? Не знал. При мне Бродский работал на совесть. В редких перерывах курил „Беломор“. Работали почти без отдыха. В обед я пошел к своему тезке, Пашкову, а Бродского увела к себе Анастасия Пестерева, у которой он жил на квартире в Норинской. После обеда опять кидали тяжелые мешки, и так весь день. Бродский был в осеннем пальто и полуботинках. Я спросил: „Что же не одел фуфайку и сапоги?“ Он промолчал. А что тут скажешь, он понимал ведь, что грязная работа предстоит. Видно просто молодая беспечность».
Анна Шипунова, судья Коношского райнарсуда: «Мне очень хорошо помнится, что высланный Бродский был осужден за отказ собирать камни с полей совхоза „Даниловский“ на 15 суток ареста. Когда Бродский отбывал наказание в камере Коношского РОВД, у него был юбилей (24 мая 1965 года Иосифу исполнилось 25 лет. — Прим. авт.). В его адрес поступило 75 поздравительных телеграмм. Мне стало известно об этом от работницы отделения связи, она была народным заседателем в нашем суде. Мы, конечно, удивлялись — что это за личность такая? Потом мне стало известно, что к нему на юбилей прибыло из Ленинграда много людей с цветами, подарками.
Коллектив поздравляющих направился ко второму секретарю райкома Нефедову — с тем, чтобы он повлиял на суд. Нефедов мне позвонил: „Может, освободим его на время, пока люди из Ленинграда здесь? Мы, конечно, вопрос рассмотрели и освободили Бродского насовсем. В камере он больше не появлялся“».
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Шрифт:
100% +
Людмила Штерн
Поэт без пьедестала
Воспоминания об Иосифе Бродском
Светлой памяти дорогих и любимых Гены Шмакова, Алекса и Татьяны Либерман
Я считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность друзьям Иосифа Бродского и моим друзьям за неоценимую помощь, которую они оказали мне при написании этих воспоминаний.
Я очень обязана замечательному фотографу, хроникеру нашего поколения Борису Шварцману за разрешение использовать его уникальные фотографии в этой книге.
Спасибо Мише Барышникову, Гарику Воскову, Якову Гордину, Галине Дозмаровой, Игорю и Марине Ефимовым, Ларисе и Роману Капланам, Мирре Мейлах, Михаилу Петрову, Евгению и Надежде Рейн, Ефиму Славинскому, Галине Шейниной, Юрию Киселеву и Александру Штейнбергу за письма и материалы из их личных архивов.
Я также пользовалась дружескими советами Льва Лосева и Александра Сумеркина, которых, к моему глубокому сожалению, не могу поблагодарить лично.
И, наконец, – бесконечная признательность моему мужу Виктору Штерну за неизменную поддержку постоянно сомневающегося в себе автора.
ОТ АВТОРА
За годы, прошедшие со дня смерти Иосифа Бродского, не было дня, чтобы я не вспоминала о нем. То, занимаясь чем-то, с литературой никак не связанным, бормочу его стихи, как иногда мы напеваем под нос неотвязный мотив; то вспыхнет в мозгу отдельная строчка, безошибочно определяющая душевное состояние этой минуты. И в самых разных ситуациях я задаю себе вопрос: «А что бы сказал об этом Иосиф?»
Бродский был человеком огромного масштаба, сильной и значительной личностью, обладавшей, к тому же, редким магнетизмом. Поэтому для тех, кто близко его знал, его отсутствие оказалось очень болезненным. Оно как бы пробило ощутимую брешь в самой фактуре нашей жизни.
Писать воспоминания об Иосифе Бродском трудно. Образ поэта, сперва непризнанного изгоя, преследуемого властями, дважды судимого, побывавшего в психушках и в ссылке, выдворенного из родной страны, а затем овеянного славой и осыпанного беспрецедентными для поэта при жизни почестями, оказался, как говорят в Америке, «larger than life», что вольно можно перевести – грандиозный, величественный, необъятный.
Бродский при жизни стал классиком и в этом качестве уже вошел в историю русской литературы второй половины ХХ века. И хотя известно, что у классиков, как и у простых людей, имеются друзья, заявление мемуариста, что он (она) – друг (подруга) классика, вызывает у многих недоверие и подозрительные ухмылки.
Тем не менее за годы, прошедшие со дня его кончины, на читателей обрушилась лавина воспоминаний, повествующих о близких отношениях авторов с Иосифом Бродским. Среди них есть аутентичные и правдивые заметки людей, действительно хорошо знавших поэта в различные периоды его жизни. Но есть и недостоверные басни. При чтении их создается впечатление, что Бродский был на дружеской ноге – выпивал, закусывал, откровенничал, стоял в одной очереди сдавать бутылки, советовался и делился сокровенными мыслями с несметным количеством окололитературного люда.
Дружить, или, хотя бы, быть лично знакомым с Бродским сделалось необходимой визитной карточкой человека «определенного круга».
«Надрались мы тогда с Иосифом», или: «Ночью заваливается Иосиф» (из воспоминаний ленинградского периода), или: «Иосиф затащил меня в китайский ресторан», «Иосиф сам повез меня в аэропорт» (из мемуара залетевшего в Нью-Йорк «друга») – такого рода фразы стали расхожим паролем для проникновения в сферы. Недавно на одной московской тусовке некий господин рассказывал с чувством, как он приехал в Шереметьево провожать Бродского в эмиграцию и каким горестным было их прощание. «Вы уверены, что он улетал из Шереметьева?» – спросила бестактная я. «Откуда ж еще», – ответил «друг» поэта, словно окатив меня из ушата…
Удивительно, что при такой напряженной светской жизни у Бродского оказывалась свободная минутка стишата сочинять. (Употребление слова стишата не является с моей стороны амикошонством. Именно так Бродский называл свою деятельность, тщательно избегая слово творчество .)
Полагаю, что и сам Иосиф Александрович был бы приятно удивлен, узнав о столь многочисленной армии близких друзей.
…Иосиф Александрович… Мало кто величал Бродского при жизни по имени-отчеству. Разве, что в шутку его американские студенты. Я назвала его сейчас Иосифом Александровичем, ему же и подражая. У Бродского была симпатичная привычка величать любимых поэтов и писателей по имени-отчеству. Например: «У Александра Сергеевича я заметил…» Или: «Вчера я перечитывал Федор Михалыча»… Или: «В поздних стихах Евгения Абрамыча…» (Баратынского. – Л. Ш. ).
Фамильярный, как может показаться, тон моей книжки объясняется началом отсчета координат. Для тех, кто познакомился с Бродским в середине семидесятых, то есть на Западе, Бродский уже был Бродским. А для тех, кто дружил или приятельствовал с ним с конца пятидесятых, он долгие годы оставался Осей, Оськой, Осенькой, Осюней. И только перевалив за тридцать, стал и для нас Иосифом или Жозефом.
Право писать о Бродском «в выбранном тоне» дают мне тридцать шесть лет близкого с ним знакомства. Разумеется, и в юности, и в зрелом возрасте вокруг Бродского были люди, с которыми его связывали гораздо более тесные отношения, чем с нашей семьей. Но многие друзья юности расстались с Иосифом в 1972 году и встретились вновь шестнадцать лет спустя, в 1988. На огромном этом временном и пространственном расстоянии Бродский хранил и любовь, и привязанность к ним. Но за эти годы он прожил вторую, совсем другую жизнь, приобретя совершенно иной жизненный опыт. Круг его знакомых и друзей невероятно расширился, сфера обязанностей и возможностей радикально изменилась. Иной статус и почти непосильное бремя славы, обрушившееся на Бродского на Западе, не могли не повлиять на его образ жизни, мироощущение и характер. Бродский и его оставшиеся в России друзья юности оказались в разных галактиках. Поэтому, шестнадцать лет спустя, в отношениях с некоторыми из них появились заметные трещины, вызванные или их непониманием возникших перемен, или нежеланием с ними считаться.
В Штатах у Бродского, помимо западных интеллектуалов, образовался круг новых русских друзей. Но они не знали рыжего, задиристого и застенчивого Осю. В последние пятнадцать лет своей жизни он постепенно становился не просто непререкаемым авторитетом, но и мэтром, Гулливером мировой поэзии. И новые друзья, естественно, относились к нему с почти религиозным поклонением. Казалось, что в их глазах он прямо-таки мраморел и бронзовел в лучах восходящего солнца.
…Наше семейство оказалось в несколько особом положении. Мне посчастливилось оказаться в том времени и пространстве, когда будущее солнце Иосиф Александрович Бродский только-только возник на периферии сразу нескольких ленинградских галактик.
Мы познакомились в 1959 году и в течение тринадцати лет, вплоть до его отъезда в эмиграцию в 1972 году, проводили вместе много времени. Он любил наш дом и часто бывал у нас. Мы были одними из первых слушателей его стихов.
А три года спустя после его отъезда наша семья тоже переселилась в Штаты. Мы продолжали видеться и общаться с Бродским до января 1996 года. Иначе говоря, мы оказались свидетелями почти всей его жизни.
Эта давность и непрерывность определила специфику наших отношений. Бродский воспринимал нас с Виктором почти как родственников. Может быть, не самых близких. Может быть, не самых дорогих и любимых. Но мы были из его стаи, то есть – «абсолютно свои».
Иногда он раздражался, что я его опекаю, как еврейская мама, даю непрошеные советы и позволяю себе осуждать некоторые поступки. Да еще тоном, который давно никто себе не позволяет.
Но, с другой стороны, передо мной не надо ни казаться, ни красоваться. Со мной можно не церемониться, можно огрызнуться, цыкнуть, закатить глаза при упоминании моего имени. Мне можно дать неприятное поручение, а также откровенно рассказать то, что мало кому расскажешь, попросить о том, о чем мало кого попросишь. Ему ничего не стоило позвонить мне в семь часов утра и пожаловаться на сердце, на зубную боль, на бестактность приятеля или истеричный характер очередной дамы. А можно и в полночь позвонить – стихи почитать или спросить, «как точно называется предмет женского туалета, чтобы был вместе и бюстгальтер, и пояс, к которому раньше пристегивали чулки». (Мой ответ: «грация».) «А корсет не годится?» – «Да нет, не очень. А почему тебе нужен именно корсет?» – «К нему есть клевая рифма».
Бродский прекрасно осознавал природу наших отношений и, несмотря на кочки, рытвины и взаимные обиды, по-своему их ценил. Во всяком случае, после какого-нибудь яркого события, встречи или разговора он часто полушутя-полусерьезно повторял: «Запоминай, Людесса… И не пренебрегай деталями… Я назначаю тебя нашим Пименом».
Впрочем, для настоящего «пименства» время еще не пришло. Как писал Алексей Константинович Толстой,
Ходить бывает склизко по камешкам иным,
О том, что очень близко, мы лучше умолчим.
…Эта книжка – воспоминания о нашей общей молодости, о Бродском и его друзьях, с которыми мы были связаны долгие годы. Поэтому в тексте будут постоянно фигурировать нескромные местоимения «я» и «мы». Это неизбежно. Иначе, откуда бы мне было известно все то, о чем здесь написано?
Среди любителей русской словесности интерес к Бродскому острый и неослабевающий. И не только к его творчеству, но и к его личности, к его поступкам, характеру, стилю поведения. Поэтому мне, знавшей его много лет, захотелось описать его характер, поступки, стиль поведения.
Эта книжка не является документальной биографией Бродского и не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. Кроме того, поскольку я – не литературовед, в ней нет и намека на научное исследование его творчества. В этой книжке есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавших его людей.
Существует симпатичное американское выражение «person next door», что можно вольно перевести как «один из нас». В этих воспоминаниях я хочу рассказать об Иосифе Бродском, которого, в силу обстоятельств нашей жизни, я знала и воспринимала как одного из нас.
Глава I
НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ
Чтобы объяснить, как и почему я оказалась в орбите Иосифа Бродского, мне следует коротко рассказать о себе и своей семье.
Биографии писателей, художников, композиторов и актеров часто начинаются шаблонной фразой: «Родители маленького Саши (Пети, Гриши, Миши) были передовыми, образованнейшими людьми своего времени. С детства маленького Сашу (Петю, Гришу, Мишу) окружала атмосфера любви и преданности искусству. В доме часто устраивались литературные вечера, концерты, ставились домашние спектакли, велись увлекательные философские споры…»
Все это могло быть сказано о моей семье, родись я лет на сто или пятьдесят раньше. Но я родилась в эпоху, когда те, кто мог сидеть в уютной гостиной, сидели в лагерях, а другие, кто был еще на свободе, не музицировали и не вели увлекательных философских споров. Писатели, художники, композиторы боялись раскланиваться на улице.
Когда в 1956 году мой отец праздновал день своего рождения, за столом собрались двадцать человек, и среди них не было ни одного, избежавшего ада сталинских репрессий.
Мне невероятно повезло с родителями. Оба – петербургские интеллектуалы с яркой и необычной судьбой. Оба были весьма хороши собой, блестяще образованны и остроумны. Оба были общительны, гостеприимны, щедры и равнодушны к материальным благам. Меня не унижали, никто не ущемлял моих прав и мне очень мало что запрещали. Я росла и взрослела в атмосфере доверия и любви.
Отец по характеру и образу жизни был типичным ученым, логичным и академичным. Он обладал совершенно феноменальной памятью – на имена, на стихи, лица, числа и номера телефонов. Был щепетилен, пунктуален, справедлив и ценил размеренный образ жизни.
Мама, напротив, являла собой классическую представительницу богемного мира – артистичную, капризную, непредсказуемую и спонтанную.
Хотя по характеру своему и темпераменту они казались несовместимыми, но прожили вместе сорок лет в любви и относительном согласии.
Мой отец, Яков Иванович Давидович, закончил в Петербурге Шестую гимназию цесаревича Алексея. (В советское время она стала 314-й школой.) Его одноклассником и приятелем был князь Дмитрий Шаховской, будущий архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Их сблизила любовь к поэзии и политике. Во время Гражданской войны оба служили в Белой армии. Отец был ранен и попал в Харьковский госпиталь, а князь Шаховской оказался в Крыму и оттуда эмигрировал во Францию.
Отец стал юристом, профессором Ленинградского университета, одним из лучших в стране специалистов по трудовому праву и истории государства и права. (Кстати, среди его учеников был и Собчак.) На его долю пришелся весь «джентльменский набор» эпохи. В начале войны отца не взяли на фронт из-за врожденного порока сердца и сильной близорукости. Ему было поручено спасать и прятать книги из спецхрана Публичной библиотеки. Там он был арестован по доносу своих сотрудников за фразу «Надо было вооружаться, вместо того чтобы целоваться с Риббентропом».
Первую блокадную зиму отец провел в следственной тюрьме Большого Дома. Следователь на допросах, для большей убедительности, бил отца по голове томом Марксова «Капитала».
Отец остался жив абсолютно случайно. Его «дело» попало к генеральному прокурору Ленинградского военного округа – бывшему папиному студенту, окончившему юридический факультет за три года до войны. Одной его закорючки оказалось достаточно, чтобы «дело» было прекращено, и полуживого дистрофика вывезли по льду Ладожского озера в город Молотов (Пермь). Мы были эвакуированы туда с детским интернатом Ленинградского отделения Союза писателей. В этом интернате мама работала то уборщицей, то воспитательницей, то медсестрой.
В 1947-м, сразу после защиты докторской диссертации, отца объявили космополитом и выгнали из университета. У него случился обширный инфаркт, что в сочетании с врожденным пороком сердца на двенадцать лет сделало его инвалидом. Вернулся он к преподаванию в 1959 году, а пять лет спустя, в 1964-м, умер от второго инфаркта.
Папиной страстью была русская история. Он досконально знал историю царской семьи и был непревзойденным знатоком русского военного костюма. Ираклий Андроников в книжке «Загадка Н. Ф. И.» рассказал, как отец по военному костюму молодого офицера на очень «невнятном» портрете сумел «разгадать» Лермонтова.
В последние годы жизни отец консультировал многие исторические и военные фильмы, в том числе «Войну и мир». После его смерти мы подарили его коллекцию оловянных солдатиков, фотографии старых русских орденов и медалей, а также рисунки, эскизы и акварели костюмов киностудии «Мосфильм».
До 1956 года мы жили на улице Достоевского, 32, в квартире 6, а над нами, в квартире 8, жила адвокат Зоя Николаевна Топорова с сестрой Татьяной Николаевной и сыном Витей. Мы были не только соседями, но и друзьями. Не знаю, была ли Зоя Николаевна в прошлом папиной студенткой (возможно, они познакомились позже), но за чаем они часто обсуждали различные юридические казусы.
В своей книге «Записки скандалиста» Виктор Леонидович Топоров пишет, что пригласить его маму, Зою Николаевну Топорову, в качестве адвоката Иосифа Бродского посоветовала Ахматова.
Вполне возможно, что и Анна Андреевна тоже. Но я помню, как отец Бродского, Александр Иванович, на следующий день после ареста Иосифа приехал к моему отцу просить, чтобы он порекомендовал адвоката. Отец прекрасно знал весь юридический мир и назвал двух лучших, с его точки зрения, ленинградских адвокатов: Якова Семеновича Киселева и Зою Николаевну Топорову. После разговора втроем и папа, и Александр Иванович, и сам Киселев решили, что Якову Семеновичу лучше устраниться. Он, хоть и носил невинную фамилию Киселев, но обладал уж очень этнически узнаваемой наружностью. На суде это могло вызвать дополнительную ярость господствующего класса. Зоя Николаевна Топорова – хотя тоже еврейка – но Николаевна, а не Семеновна. И внешность не столь вызывающая, еврейство «не демонстрирующая». Такая наружность вполне могла принадлежать и «своему».
Зоя Николаевна была человеком блестящего ума, высочайшего профессионализма и редкой отваги. Но все мы, включая и папу, и Киселева, и Зою Николаевну, понимали, что, будь на ее месте сам Плевако или Кони, выиграть этот процесс в стране полного беззакония невозможно.
В 1956 году мы покинули коммуналку на улице Достоевского (до революции эта квартира принадлежала маминым родителям) и переехали на Мойку, 82. Этот огромный, в прошлом доходный дом выходил сразу на три улицы: на переулок Пирогова, на Фонарный переулок, знаменитый Фонарными банями со скульптурой медведя на лестнице, и на Мойку. В этом же доме жил Алик Городницкий, с которым мы вместе учились в Горном институте. К Городницким вход был с Мойки, а наш подъезд – с переулка Пирогова (бывшего Максимилиановского).
Невзрачный переулок Пирогова оканчивался тупиком – кажется, единственным в Ленинграде. И в тупике этом была потайная дверь бурого цвета, почти неотличимая от такой же бурой стены. Настолько незаметная дверь, что многие живущие в переулке граждане даже не подозревали о ее существовании.
А между тем через эту дверь можно было проникнуть в закрытый, невидимый с улицы и как бы изолированный от городской жизни сад Юсуповского дворца.
Однажды папа повел нас – Бродского, меня и наших общих приятелей Гену Шмакова и Сережу Шульца – в этот сад и с мельчайшими подробностями рассказал о роковом вечере убийства Распутина. Он знал, из какой двери выбежал Феликс Юсупов, где стоял член Государственной Думы Владимир Митрoфанович Пуришкевич и что делала в этот момент жена Юсупова, красавица Ирина…
С тех пор Бродский часто проникал через потайную дверь в тупике в Юсуповский сад.
«Когда я там, ни одна живая душа не знает, где я. Как в другом измерении. Довольно клевое ощущение», – говорил он.
Тупик нашего переулка даже упомянут в оде, написанной Иосифом моей маме в день ее девяностопятилетия. Вот из нее отрывок:
При мысли о вас вспоминаются
Юсуповский, Мойки вода,
со свертком подобье гнезда.Как знать, благодарная нация
когда-нибудь с кистью в руке
теней наших в том тупике.
Папа коллекционировал оловянных солдатиков. Раза два в месяц к нам из военной секции Дома ученых приходили его друзья, «задвинутые» на военной истории России. Они, кроме папы, были уже пенсионерами, а в прошлом имели высокие военные звания. Помню хорошо двоих: Романа Шарлевича Сотта и Илью Лукича Гренкова. Роман Шарлевич, среднего роста, с бледным, нервным лицом, отличался повышенной худобой. У него были огромные выпуклые глаза, что придавало ему сходство с раком. Когда Сотт смеялся, они буквально выскакивали из орбит. Под тонким хрящеватым носом красовались невиданной красоты холеные усы. Время от времени Роман Шарлевич расчесывал их серебряной щеточкой. Мама восхищалась его галантностью, безупречными манерами и говорила, что он – «типичный виконт». А наша няня Нуля придерживалась другого мнения: «Шарлевич, как кузнечик, исхудавши весь».
Илья Лукич, напротив, был пышный, мягкий и уютный. Его гладкие розовые щеки напоминали лангеты и, когда он смеялся, надвигались на глаза и напрочь их закрывали.
Оба приходили со своими оловянными драгунами, уланами и кирасирами. Крышка рояля опускалась, и на черной полированной поверхности «Беккера» устраивалось какое-нибудь знаменитое сражение. Собиралось довольно много народа, и наши «полководцы» рассказывали, как располагались полки, кто кого прикрывал, с какого фланга начиналась наступление.
«Сегодня у нас состоится Бородинское сражение, – вдохновенно говорил папа, – рояль – Бородинское поле. Мы находимся в трехстах метрах от флешей Багратиона. С другой стороны, метрах в семистах, – Бородино. Мы начинаем с атаки французов. Справа двигаются две дивизии Дессе и Компана, а слева полки вице-короля».
«Минуточку, – перебивал Илья Лукич, – пока они никуда не двигаются. Разве вы забыли, Яков Иванович, что они начали атаку, получив в подкрепление дивизию Клапарена, и ни минутой раньше?»
В этот момент, Роман Шарлевич внезапно терял свои виконтские манеры и, впадая в ХIХ век, перебивал полковника: «Нет-с, простите-с, не так было дело… Не знаете – не суйтесь, милейший. Наполеон отменил дивизию Клапарена и послал дивизию Фриана, что было с его стороны роковой ошибкой. А когда пошел в атаку наш драгунский полк…» – «Он не пошел, не пошел! – топал ногой Илья Лукич. – Яков Иванович, подтвердите, что драгунам был приказ не наступать, пока…» Ну и так далее.
Бродский очень любил эти военные вечера. Он облокачивался на крышку рояля и внимательно следил «за передвижением войск». Я помню, с каким завороженным лицом Иосиф слушал объяснения «военоначальников» об ошибках и Наполеона, и Кутузова во время Бородинского сражения, и не раз высказывал свое мнение, как следовало бы им поступить.
Кроме Бродского на военные вечера приходили Илюша Авербах, Миша Петров и часто спускался с третьего этажа наш сосед и общий с Бродским приятель Сережа Шульц, геолог, знаток и любитель искусств. Наивный, деликатный, всем желающий добра, Сережа и внешне, и внутренне очень напоминал Маленького принца из сказки Сент-Экзюпери. После женитьбы он иногда спускался к нам со слезами на глазах – пожаловаться на молодую жену за то, что хочет ходить по театрам и кино, вместо того чтобы учить с ним по вечерам французский язык.
Однажды его мама Ольга Иосифовна, тоже геолог, ворвалась к нам с белым лицом и сказала, чтобы мы немедленно «все это» уничтожили – наверху у Сережи идет обыск. В то время в квартире еще были печи. Мы затопили печь и начали «все это» бросать в огонь. Сережа был книжным фанатиком, он снабжал нас самиздатом и абсолютно недоступными западными изданиями Оруэлла, Замятина, Даниэля и многих других «прокаженных». Он открыл для меня Набокова.
Тридцать пять лет спустя, на конференции, посвященной 55-летию Бродского, в Петербурге, Сережа Шульц передал мне для Иосифа подарок – свою книгу «Храмы Санкт-Петербурга» с таким автографом: «Дорогому, милому Иосифу (ибо сегодняшнего Жозефа Бродского представляю себе туманнее, чем Осика нашей юности), далеко-далеко улетевшему из Санкт-Петербурга – на память о нем и обо мне, в надежде на встречу где-нибудь, когда-нибудь».
Этой встрече не суждено было состояться.
Как-то мы с отцом собрались в Русский музей и пригласили Бродского и Шульца к нам присоединиться.
Проходя мимо репинского «Заседания Государственного совета», Иосиф спросил, кто кого знает из сановников. Сережа знал шестерых, я – двоих. «Многих», – сказал отец. Мы уселись на скамейку перед картиной, и папа рассказал о каждом персонаже на этом полотне, включая происхождение, семейное положение, заслуги перед отечеством, романы, козни и интриги. Мы провели в «Государственном совете» два часа и пошли домой. На дальнейшее любование живописью не было сил.
Очень тепло, даже с нежностью, Бродский относился к моей матери, Надежде Филипповне Фридланд-Крамовой. Мама родом из еврейской «капиталистической» семьи. Ее дед владел заводом скобяных изделий в Литве. Однажды мой отец случайно наткнулся в Публичной библиотеке на устав этого завода, из которого следовало, что еще в 1881 году там был восьмичасовой рабочий день и оплачиваемый отпуск для рабочих. Будучи специалистом по трудовому праву, отец заочно маминого деда «одобрил».
Мамин отец Филипп Романович Фридланд был известным в Петербурге инженером-теплотехником. Как-то, отдыхая в Базеле (а возможно, на каком-то другом швейцарском курорте), он оказался в одном пансионате с Лениным. Они подружились на почве русских романсов – Ленин пел, Филипп Романович аккомпанировал. По вечерам, выпив пива, они совершали долгие прогулки, и Ленин развивал перед дедом идеи о теории и практике революции. Расставаясь, они обменялись адресами. Уж не знаю, какой адрес дал деду Владимир Ильич (возможно, что шалаша), но Филипп Романович и вправду получил от будущего вождя два или три письмеца.
Полагаю, что ленинские идеи произвели на деда сильное впечатление, потому что в 1918 году, схватив жену, пятилетнего сына и восемнадцатилетнюю дочь (мою будущую маму), дед ринулся в эмиграцию. На полдороге революционно настроенная мама сбежала от родителей и вернулась в Петроград. Следующая ее встреча с остатками семьи состоялась через пятьдесят лет.
В 1917 году мама закончила Стоюнинскую гимназию, в которой учились многие выдающиеся дамы, в том числе Нина Николаевна Берберова и младшая сестра Набокова Елена Владимировна.
Мамина жизнь вообще и карьера в частности были невероятно разнообразными. Она играла в театре «Балаганчик» с Риной Зеленой. Оформителем спектаклей был Николай Павлович Акимов, режиссером – Семен Алексеевич Тимошенко. После закрытия театра мама снималась в кино – например, в главных ролях в таких известных в свое время фильмах, как «Наполеон-Газ», «Гранд-отель» и «Минарет смерти». Хороша она была необыкновенно, этакая роковая femme fatalе, прозванная «советской Глорией Свенсон».
В юности мама посещала поэтические семинары Гумилева. Как-то на одном из занятий она спросила: «Николай Степанович, а можно научиться писать стихи, как Ахматова?»
«Как Ахматова вряд ли, – ответил Гумилев, – но вообще научиться писать стихи очень просто. Надо придумать две приличные рифмы, и пространство между ними заполнить по возможности не очень глупым содержанием».
Мама была знакома с Мандельштамом, Ахматовой и Горьким, играла в карты с Маяковским, дружила со Шкловским, Романом Якобсоном, Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, Зощенко, Каплером, Ольгой Берггольц и другими, теперь уже ставшими легендарными людьми. О встречах с ними и о своей юности мама, в возрасте девяноста лет, написала книгу воспоминаний «Пока нас помнят».
Оставив сцену, мама занялась переводами и литературной работой. Она перевела с немецкого пять книг по истории и теории кино, написала несколько пьес, шедших на сценах многих городов Союза, а во время папиной болезни, когда его «инвалидной» пенсии едва хватало на еду, навострилась писать сценарии для «Научпопа» на самые невероятные темы – от разведения пчел до научного кормления свиней.
Приехав в Бостон в возрасте семидесяти пяти лет, мама организовала театральную труппу, назвав ее со свойственной ей самоиронией ЭМА – Эмигрантский Малохудожественный Ансамбль. Она сочиняла для ЭМЫ скетчи и тексты песен и сама играла в придуманных ею сценках. Она написала более сорока рассказов, которые были опубликованы в русскоязычных газетах и журналах в Америке, Франции и Израиле, а в девяносто девять лет издала поэтический сборник с «вычурным» названием «СТИХИ».
Благодаря родителям моя юность прошла в обществе замечательных людей. В нашем доме бывали директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Орбели с женой Антониной Николаевной (Тотей) Изергиной, одной из самых остроумных женщин того времени; Лев Львович Раков, который основал Музей обороны Ленинграда, а отсидев за это, стал директором Публичной библиотеки; художник Натан Альтман, автор известного портрета Анны Ахматовой, с Ириной Валентиновной Щеголевой. Бывали молодой еще физик Виталий Лазаревич Гинзбург и режиссер Николай Павлович Акимов. Кстати, именно Акимов познакомил моих родителей, так что я косвенно обязана ему своим существованием. Бывали органист Исай Александрович Браудо с Лидией Николаевной Щуко, писатель Михаил Эммануилович Козаков с Зоей Александровной (с их сыном Мишей Козаковым мы дружим с детского сада).
Часто бывал у нас и Борис Михайлович Эйхенбаум с дочерью Ольгой. С Эйхенбаумом связана такая забавная история. В девятом классе нам было задано домашнее сочинение «по Толстому». Я выбрала «Образ Анны Карениной». В тот вечер к нам пришли гости, и в том числе Борис Михайлович. Я извинилась, что не могу ужинать со всеми, потому что мне надо срочно «накатать» сочинение. «О чем будешь катать?» – спросил Эйхенбаум. Услышав, что об Анне Карениной, Борис Михайлович загорелся: «Ты не возражаешь, если я за тебя напишу? Хочется знать, гожусь ли я для девятого класса советской школы».
На следующий день я пришла к Эйхенбауму в «писательскую надстройку» на канале Грибоедова за своим сочинением. Оно было напечатано на машинке, и мне пришлось его переписывать от руки в тетрадь. До сих пор проклинаю себя за то, что не сохранила этот, теперь уже исторический, текст.
За сочинение об Анне Карениной Эйхенбаум получил тройку. Наша учительница литературы Софья Ильинична с поджатыми губами спросила: «Где ты всего этого нахваталась?»
Борис Михайлович был искренне огорчен. И трояком, и насмешками, и хихиканьем друзей…
С годами ряды «старой гвардии» начали редеть. Дом наполнялся моими друзьями, и родители их приняли и полюбили. В 1964 году умер мой отец, но мама оставалась душой нашей компании вплоть до 1975 года, до отъезда в эмиграцию.
В декабре 1994 года мы праздновали в Бостоне мамино девяностопятилетие, на которое был приглашен и Бродский. К сожалению, он плохо себя чувствовал и приехать не смог. Вместо себя он прислал маме в подарок поздравительную оду.
ОДА
Надежде Филипповне Крамовой на день ее девяностопятилетия 15 декабря 1994 года
Надежда Филипповна, милая!
Достичь девяносто пяти
упрямство потребны и сила – и
позвольте стишок поднести.Ваш возраст – я лезу к вам с дебрями
идей, но с простым языком -
есть возраст шедевра. С шедеврами
я лично отчасти знаком.Шедевры в музеях находятся.
На них, разеваючи пасть,
ценитель и гангстер охотятся.
Но мы не дадим вас украсть.Для Вас мы – зеленые овощи,
и наш незначителен стаж.
Но Вы для нас – наше сокровище,
и мы – Ваш живой Эрмитаж.При мысли о Вас достижения
Веласкеса чудятся мне,
Учелло картина «Сражение»
и «Завтрак на травке» Мане.При мысли о вас вспоминаются
Юсуповский, Мойки вода,
Дом Связи с антеннами – аиста
со свертком подобье гнезда.Как редкую араукарию,
Людмилу от мира храня,
и изредка пьяная ария
в подъезде звучала моя.Орава кудряво-чернявая
клубилась там сутками сплошь,
талантом сверкая и чавкая,
как стайка блестящих галош.Как вспомню я вашу гостиную,
любому тогда трепачу
доступную, тотчас застыну я,
вздохну и слезу проглочу.Там были питье и питание,
там Пасик мой взор волновал,
там разным мужьям испытания
на чары их баб я сдавал.Теперь там – чужие владения
под новым замком, взаперти,
мы там для жильца – привидения,
библейская сцена почти.В прихожей кого-нибудь тиская
на фоне гвардейских знамен,
мы там – как Капелла сикстинская -
подернуты дымкой времен.Ах, в принципе, где бы мы ни были,
ворча и дыша тяжело,
мы, в сущности, слепки той мебели,
и вы – наш Микельанджело.Как знать, благодарная нация
когда-нибудь с кистью в руке
коснется, сказав «реставрация»,
теней наших в том тупике.Надежда Филипповна! В Бостоне
большие достоинства есть.
Везде – полосатые простыни
со звездами – в Витькину честь.Повсюду – то гости из прерии,
то Африки вспыльчивый князь,
то просто отбросы Империи,
ударившей мордочкой в грязь.И Вы, как бурбонская лилия
в оправе из хрусталя,
прищурясь на наши усилия,
глядите слегка издаля.Ах, все мы здесь чуточку парии
и аристократы чуть-чуть.
Но славно в чужом полушарии
за Ваше здоровье хлебнуть!
Мама так растрогалась, что ответила Иосифу стихами. Ее отвага показалась нам безумством: это все равно как Моцарту послать сонату своего сочинения. Вот что написала моя девяностопятилетняя мама.


М. ПЕШКОВА: В скорби и грусти… Умер Пётр Вайль. Неоднократно брала у Вайля интервью по разным поводам. Так и не выбралась к нему в Прагу. «Посудите сами, - говорил он мне, когда спросила, не тоскует ли он, покинув Америку, - Вы живёте в центре Европы и на выходной можете съездить в любимую Венецию». В тот год, 1996-ой, умер Бродский. И говорили с Петром Львовичем, конечно же, о четвёртом российском Нобелевском лауреате.
П. ВАЙЛЬ: Мало кто знает в России, что дело, которым он увлечённо занимался последний год жизни, увы, не закончил, но это дело продолжает его вдова – это создание русской Академии в Риме. Чтобы несколько человек, российских деятелей искусства, скажем, для начала – один писатель, один архитектор, один музыкант, один художник, могли бы приехать в Рим и жить там год на стипендии, ничем не занимаясь, как это было когда-то, когда отправляли одарённых людей в Италию, чтобы они просто жили в этом бульоне культуры, варились.
И Бродский приложил к этому огромные усилия, договариваясь с римской мэрией, заручился поддержкой. И дело это продолжается. Его друзья итальянские и, повторяю, его вдова, продолжают это дело. Вот эта сторона деятельности Бродского, насколько мне известно, в России совершенно неизвестна.
М. ПЕШКОВА: Я хотела спросить о преподавательской деятельности Иосифа Бродского. Делился ли он с Вами какими-нибудь впечатлениями?
П. ВАЙЛЬ: Да! К моему большому удивлению он это любил, я сам отношусь к самой идее преподавания с ужасом и отвращением, поэтому я расспрашивал Бродского об этом. И ему это нравилось. Он говорил, что когда видишь эти мордочки, обращённые к тебе, эти глаза, и вдруг понимаешь, что они поняли стихотворение Мандельштама… Это доставляло ему огромное удовольствие. Да, как ни странно с моей точки зрения, он это любил.
И, кроме того, он очень любил эти места, где преподавал. Он преподавал в колледже Маунт-Холиок в Массачусетсе. И там совершенно прелестные места, там у Бродского была половина дома, и он там любил проводить время. И, в общем, он проводил там несколько месяцев, поскольку, как правило, второй семестр, с нового года примерно, он проводил в Маунт-Холиок, там жил, он любил эти места и любил преподавание.
М. ПЕШКОВА: И когда Иосиф Бродский умер, началась целая свара вокруг его похорон. Хотели, чтобы его тело было погребено в Санкт-Петербурге. Скажите, пожалуйста, с того берега как это всё выглядело?
П. ВАЙЛЬ: Честно говоря, это выглядело нелепо и оскорбительно. Человек умер не в странно-приютном доме, не на улице. У него семья, у него жена, теперь вдова. И единственный человек в мире, которому решать, если это не оговорено в завещании, а у Бродского это не оговорено, - это она. Поэтому все споры вокруг этого для правовой страны и для страны, хоть сколько-нибудь ценящей патриархальные семейные ценности, они просто ужасающи!
Конечно, это должна решать Мария, насколько я знаю, я поддерживаю с ней отношения, она склоняется к тому, чтобы окончательно захоронение сделать в Венеции на острове Сан-Микеле, это, я думаю, лучшее кладбище в мире, самое красивое кладбище в мире. Отдельный остров, где из деятелей русской культуры похоронены Дягилев и Стравинский. И я думаю, что это лучшее место для Бродского. И вот почему. Тут уже соображения чисто умозрительные. Всё-таки, это поэт, выходящий за рамки русской литературы.
Если во второй половине ХХ века был человек, снявший с русской литературы, с советской литературы, налёт провинциальности, то это, конечно, Иосиф Бродский. Это человек, который придал русской литературе вселенское качество. И поэтому, мне кажется, в этом есть какая-то высшая справедливость быть ему не в России и не в Америке, которой он принадлежал, которую любил, гражданином которой он был, где прожил 22 года своей жизни, а именно где-то между. А не было города, который бы Бродский больше любил, о котором бы больше написал, чем Венеция.
И мне кажется, это было бы исключительно красиво и логично. Это замкнуло некую параболу развития творчества и жизни Бродского. И могло бы стать местом паломничества для русских людей, которые всё больше и больше ездят по миру, приезжают. А Венеция, всё-таки, на мой взгляд, лучший город мира, это я разделяю это чувство, это отношение с Бродским. Я думаю, что это будет очень хорошо.
М. ПЕШКОВА: Делился ли Иосиф с Вами своими планами? Какими-то замыслами?
П. ВАЙЛЬ: Это, как правило, происходило опосредованно, косвенно. Это очень интересно было. Он вдруг начинал… например, мы шли в то же самое кафе или в китайский ресторан, или ещё куда-нибудь. И вдруг он начинал горячо говорить на какую-то тему, довольно неожиданно. Вдруг о шпионах. Он, кстати, вообще этой темой более-менее интересовался, его очень это увлекало. Вообще, очень интересовался политикой, это уже отдельный разговор. И вдруг о шпионах. Что такое! О шпионах, о шпионах, о природе шпионства, о том, что человека толкает на это дело, какие психологические процессы у него происходят.
И, как всё, о чём он говорил, было увлекательно. Я совершенно уверен, я, кстати, такие опыты и производил. Я задавал ему вопрос какой-нибудь, совершенно нелепый. У него можно было спросить о трамвайном движении. Можно было быть уверенным, что вы получите в ответ что-то необыкновенно интересное, оригинальное и умное. Вот он говорил о шпионах. В общем, со временем уже стал понимать, к чему всё это клонится.
И действительно, через какое-то время он давал почитать рукопись написанной статьи о Киме Филби. Вот так это происходило обычно. Он проговаривал ту тему, о которой писал. Что касается стихов, то тут, конечно, нет. Такие вещи, я думаю, вообще не делаются публично. Но он любил читать стихи по телефону. И это, упаси бог, не моя привилегия. Он своему ближайшему другу Льву Лосеву* читал стихи, Юзу Алешковскому**, другим друзьям, это его такая манера. Он говорил: «Я написал стишок». Он всегда говорил «Стишки».
Замечательное качество! Немыслимо себе представить, чтобы Бродский мог сказать: «Моё творчество, моя поэзия, моя литература», упаси бог! Только «Мои стишки. Я написал стишки. Хотите послушать?» Естественно, хочу. Вот он читал в телефон, ещё до не только опубликования, а только-только перенеся на бумагу.
М. ПЕШКОВА: Могу ли я Вас попросить ещё вспомнить какие-то фразы, слова Бродского? Каждое его слово было очень весомым. Помню, когда я брала у него интервью, он говорил: «Моё летие», таким образом назвав 55-летие. И только потом, расшифровывая, догадываешься, что это.
П. ВАЙЛЬ: Да, это замечательную историю Вы рассказали, это очень характерно для него. Он всегда работал на снижение. Немыслимо было услышать от Бродского что-то пафосное, патетическое. Он этого тщательно избегал. И это иногда было даже до смешного. Были обороты, он не мог произнести: «Я вчера сочинил стихотворение» или «Я вчера написал стихотворение». Это, видимо, казалось слишком нескромным. И он как-то переводил, даже само местоимение от первого лица казалось нескромным ему.
Он переводил это в третье лицо. И в таком смешном обороте… Например, он говорил: «Моя милость», иронически, перефразируя «Ваша милость». Он говорил: «Моя милость сочинила вчера стишок», при этом усмехаясь, естественно. Он избегал названий, никогда я от него не слышал ни «Советский Союз», ни «Россия». Он говорил всегда: «Отечество». Так же он избегал названий «Ленинград» или «Петербург». Он говорил: «Родной город».
Всё это, повторяю, работало на некоторое снижение. Общеизвестна его любовь к античности, его глубокое знание античности. Я однажды вычитал, что в кружке Катулла употреблялось слово «версикуле», т.е. то, что приблизительно можно сказать «стишки». Я сказал об этом Бродскому и он страшно обрадовался, потому что римские поэты, римские лирики были среди его любимых поэтов. И то, что в их кругу, во всяком случае, в кружке Катулла, тоже было принято такое сниженное название, явно ему понравилось.
Вот это то, что называется по-английски understatement – сниженность, недоговорённость, часто умолчание. Это было ему в высшей степени свойственно. Я не знаю, назвать ли это скромностью, это скорее стилистическое качество. Ему казалось неприличным говорить с пафосом о своём занятии и о себе лично.
М. ПЕШКОВА: «Эхомосковские» беседы с Петром Вайлем, памяти критика, мемуариста, журналиста в программе Пешковой «Непрошедшее время».
Потом мы встретились в 1998 году по поводу книги «Труды и дни Бродского», составленной Львом Лосевым и Петром Вайлем.
П. ВАЙЛЬ: Лёша, его знакомые зовут именно так, Лёша Лосев согласился и мы стали придумывать какие-то рубрики, общая рубрика «Иосиф Бродский, труды и дни». И не столько рубрика, сколько разделы. Первое, что просилось – это Бродский и Пушкин. Дело в том, что в самые последние два месяца своей жизни Бродский читал почти исключительно Пушкина. Я в этом усматриваю какой-то определённый знак. Вообще, мне всё больше и больше кажется, что Бродский, что свойственно гениальным поэтам, гениальным людям, а гениальным поэтам в особенности. Он не то, чтобы предвидел, а предчувствовал свою кончину.
И я думаю то, что он читал так интенсивно именно нашего первого поэта, нашего главного поэта – это совершенно неслучайно. Он всё время об этом говорил. Для Бродского было очень характерно, когда он чем-то увлечённо занимался, он сводил всегда разговор к этому. И буквально все разговоры с ним были в то время о Пушкине. Невероятно интересно! И потом какие-то обрывки этих разговоров я узнавал в написанных им в ту пору эссе и даже стихотворений.
И вот отношение Бродского к Пушкину было очень читательски внимательным. Он усматривал в его стихах и особенно в его прозе, особенно в его малой прозе вещи, которые, понятно, рядовому читателю, может быть и не разглядеть. Я помню, что Бродский читал особенно внимательно вот такие вещи, как «Египетские ночи», «История села Горюхино», находил там первое остроумие, точности и несколько раз припоминаю, как в разговоре со мной он говорил, что это надо читать в качестве какого-то противоядия, что ли, современному постмодернизму. Он это слово не любил. И произносил не то, чтобы с иронией, а с отстранением некоторым. Эта пушкинская ясность, лаконичность и простота его страшно привлекала и восхищала.
Например, когда я обратил внимание в «Истории села Горюхино» на замечательную шутку, когда герой возвращается в деревню. И там идёт, я цитирую неточно, «я говорил бабам: «Как ты, матушка, постарела», а они ему без церемонии отвечали: «А как Вы-то, батюшка, подурнели!» Бродский хохотал и говорил, что это абсолютно естественная российская жизненная ситуация. Вот это говорение вовсе ненужной, не спрашиваемой правды в лицо каждому встречному-поперечному, когда тебя вовсе об этом не просят, когда откровенность почитается безусловным благом, независимо от того, какие последствия.
А он, с невероятным трепетом, смаковал первую фразу «Истории села Горюхино»: «Если бог пошлёт мне читателей». Он говорил о том, что до каких же высот нужно дойти, чтобы начать с такой низкой ноты свою какую-то очередную вещь. Надо сказать, что это вообще характерно очень для самого Бродского было, это занижение, что по-английски называется understatement, всяческое принижение своих заслуг, своих достоинств, своей роли, невыпячивание, для Бродского это было невероятно характерно.
И приходилось говорить о том, что немыслимо представить себе, чтобы он говорил: «Моя поэзия» или «Моё творчество» или даже «Мои стихи». Он говорил только «Стишки». Вот, сочинил стишок. Поэтому «если бог мне пошлёт читателей» пушкинское, конечно, полностью соответствовало его поэтическому мироощущению.
Ещё помню, что в «Египетских ночах», я, естественно, стал тоже перечитывать всю эту пушкинскую малую прозу. Невозможно было удержаться, так заразительно говорил об этом Бродский. И вообще, хотелось в следующем разговоре соответствовать и поддерживать разговор по свежим впечатлениям. Я там нашёл, в «Египетских ночах», описание роли стихотвоца в обществе, о том, как он несвободен от общества, как он вынужден жить в социальной жизни, как все к нему пристают. Там написано, что стоит только ему задуматься, тут же все бросаются и говорят: «Извольте что-то сочинять!»
И Бродский охотно очень отозвался. Это понятно, что он проецировал это на свою собственную ситуацию. Это совершенно естественно. Он был в центре внимания, несмотря на то, что жил, всё-таки, в стране не своего языка. Я думаю, что, конечно, поэту его масштаба на родине жилось бы в этом смысле значительно труднее. Но даже в Нью-Йорке он был окружён постоянным вниманием и часто назойливым. Взять только его почту! Гигантскую, огромных размеров!
У него была секретарь Энн Шеллберг, которая стала душеприказчицей творческого наследия Бродского после его кончины по завещанию. Она выполняла функции англоязычного секретаря, а функции русскоязычного выполнял Александр Сумеркин, замечательный исследователь стихов, литературовед, который помогал Бродскому. Фактически, он был составителем последнего его сборника «Пейзаж с наводнением», который вышел уже после смерти поэта.
Так вот, хватало работы и Энн Шеллберг***, и Саше Сумеркину****, и самому Бродскому. Я помню, он мне показывал письмо, пришедшее из Индии. Там была гигантская поэма, размером с «Упанишады», наверное. И в целях почтовой экономии написанная на папиросной бумаге с двух сторон. Огромная, прямо на английском языке. И вот что поражало меня всегда. Бродский её прочитал. Он её прочитал от начала до конца, и ответил. Или продиктовал свой ответ Энн Шеллберг, я уже сейчас не помню. Но факт, что он ответил.
Он отвечал на множество писем. И я просто знаю, как минимум, двух молодых людей 16-18 лет, это дети моих знакомых нью-йоркских, которые свои первые поэтические опыты посылали Бродскому, осмелились послать Бродскому. И получили вразумительный, спокойный, доброжелательный и обстоятельный ответ. Вот это меня всегда потрясало, что он не раздражался, что было бы естественным при невероятной занятости, при преподавании, при собственном писании, при семье, при маленьком ребёнке, он находил время для этого.
И ответы его были действительно образцовыми письмами, наставлениями начинающим литераторам. И в них не было ни ноты пренебрежения или взгляда сверху. Вообще, мне много приходилось и приходится сейчас ещё, слышать отзывов о неком высокомерии, надменности Бродского. Думаю, что, всё-таки, в этом если есть правда, а наверное это правда, всё это относится к молодым годам его. Я его тогда не знал. Я застал его уже человеком зрелым, взрослым. И в этот период совершенно могу свидетельствовать, ничего подобного никогда не было.
Я помню, как-то он позвонил мне и позвал в кафе в Гринидж-Вилидже, потому что у него там была назначена встреча с двумя журнальными функционерами из Москвы. И он, предчувствуя довольно тяжёлую обстановку, не хотел быть один, так я понял это дело. Я неслучайно говорю «журнальные функционеры», это действительно были люди махровые, из прошлого, с печатью какого-то не то Союза писателей, не то горкома или ЦК. Что-то такое страшноватое.
М. ПЕШКОВА: Какие-то «красные», да?
П. ВАЙЛЬ: да нет, даже не «красные», не хочется вникать в это более подробно, во всяком случае, люди какие-то мрачные, из прошлого. И вели себя они соответственно, то есть, они уже ничего не могли с собой сделать, это были сложившиеся пожилые люди, в которых эта начальственная барственность, она въелась в такой степени, что кажется, всосана с молоком матери и тут уже деваться некуда. И, откинувшись, один из них на спинке стула, говорил Бродскому: «Над чем работаете?» Я думал, что даже я бы, при своём малом масштабе, я бы не вытерпел, я бы сказал: «Простите, я не могу тратить своё время на эту ахинею».
Абсолютно! Бродский отвечал, над чем он работает, рассказывал. «А как изволите оценивать ситуацию?» - спрашивали. И он терпеливо отвечал. Когда они потом расстались, я с изумлением спросил Иосифа, почему, что его заставляло сидеть с этими людьми полтора часа и ничего такого не сказать? Он сказал, что раньше бы он поступил по-другому. И сказал фразу, что-то вроде того: «Воспитывать себя надо», что-то в этом роде. И он действительно себя воспитывал.
М. ПЕШКОВА: Затем Пётр Львович рассказал о новой книге, над которой он тогда…слово «работал» менее всего подходит к той лёгкости, с которой он рассказывал о гении места. Спасибо издателю Ольге Морозовой, опубликовавшей Вайля. Это потом к нему издатели стали в очередь после «Гения места».
Наталья Якушева – звукорежиссёр передачи. Я Майя Пешкова. «Непрошедшее время».
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Лев Влади́мирович Ло́сев (наст. фамилия Ли́фшиц; 15 июня 1937, Ленинград - 6 мая 2009, Гановер, Нью-Гэмпшир, США) - известный русский поэт, литературовед, эссеист.
** Ио́сиф Ефи́мович Алешко́вский, более известный как Юз Алешко́вский (род. 21 сентября 1929, Красноярск, РСФСР) - русский писатель, поэт и бард.
*** Энн Шеллберг - литературный представитель Фонда Иосифа Бродского в Америке - была помощником и литературным директором поэта в течение десяти последних лет его жизни.
**** Александр Евгеньевич Сумеркин (2 ноября 1943, Москва - 14 декабря 2006, Нью-Йорк) - российско-американский переводчик и редактор.